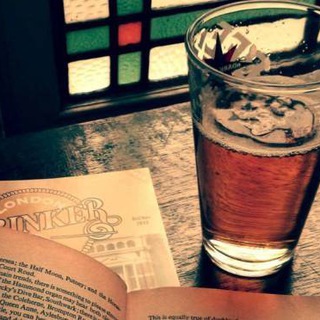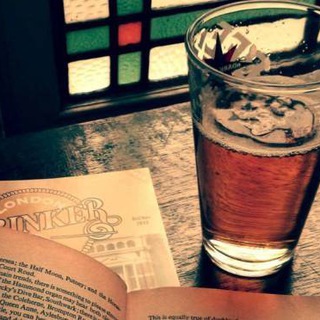2021-05-17 13:25:50
Однажды девочка открыла вроде бы классический британский роман и задумалась: а что может быть жанровым приемом, а что — нет?
Итак, Джонатан Коу, «Дом сна»: книга про сон, заменяющий реальность, и про отсутствие сна. Главная героиня Сара страдает нарколепсией — она путает сны с реальностью и вообще, говорит нам автор, странненькая, ибо год стоит 1980-какой-то, и что такое нарколепсия никто не знает. Еще в книге есть Роберт, который в Сару беззаветно, обсессивно, криповато и, конечно, навсегда влюблен, но Сара решает встречаться с девочками. Спустя десяток лет их друг Тэрри попадает в клинику исследований сна, которой заведует безумец, и история начинает собираться в крепко связанный пучок сюжетных линий.
На самом-то деле не суть. Роман этот очень закупоренный: все участники истории — явно единственные люди на земле, и вы можете быть уверены, что любой передающий соль герой будет как-то с ними связан. Из-за этого в тексте есть бешеная динамика: с выверенной регулярностью читатель будет думать «а, агааа», и это поддерживает интерес, но большая часть этих ага-моментов — искусственно сконструированные автором совпадения.
НУ ДА НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ СУТЬ, хочу-то я поговорить об ориентации героини как сюжетном инструменте.
Дальше начнутся спойлеры к сюжету романа, поэтому если для вас это важно — НЕ ЧИТАЙТЕ ПОСТ, ЧИТАЙТЕ КНИГУ, ПОТОМ ОБСУДИМ.
Итак: в начале книги главная героиня отношается с мудаком, расстается с ним и встречает прекрасную девушку: умную, красивую, амбициозную, творческую феминистку с глазом горящим. Все по науке. Начинает встречаться с ней, не заметив подкатов со стороны милого и чувствительного друга, с которым они аж дважды душевно поговорили. А потом она расстается с девочкой из-за идеалов комунизма (на самом деле нет, на самом деле да) и говорит ему — мол, все в тебе хорошо, конечно, вот был бы ты девочкой... Проходят годы, героиня выходит замуж (разумеется), разводится (ну конечно), решает, что секс это вообще не главное (ну да) и мучается, мол, где же где же Роберт. Потом она понимает, что все это время любила только его. Но есть нюанс: Роберт уже сделал операцию по смене пола, потому что был уверен, что пол — это единственное, что она не могла в нем полюбить.
И с точки зрения структуры сюжета это неплохой ход. Когда мы понимаем, что одна из героинь — на самом деле Роберт, мы такие — «а, агааа». Ориентация героини — просто сюжетный стоппер, непреодолимая преграда, которая объясняет, почему на этом этапе истории между ними не может быть любви. Нежелание вступать в отношения с Робертом — не решение героини, на которое можно (ну конечно!) как-то повлиять, переубедить, сделать ЖЕСТ — нет, это над ней, это данность, элемент жестокой реальности, который расстраивает её так же, как и его. Этот прием нужен, чтобы создать главный нерв романа. Непреодолимая преграда снимается, когда героиня проживает, преисполняется и понимает, он, только он! Но урон уже нанесен — Роберта нет, есть Клио, живи теперь как-то с этим (за пределами романа, конечно). Смена пола — не высказывание и не репрезентация, а лишь литературный прием, который показывает, на какие безумства может решиться человек, чье чувство долгие годы остается без ответа. Причем прием анекдотический — над ним предполагается посмеяться.
Здесь особенно заметна разница между ориентацией-как-приемом-или-жанром и репрезентацией. В предисловии Коу пишет, что планировал написать смешную книжку, где мужчина-гетеросексуал влюбляется в женщину-гомосексуалку, но все почему-то восприняли её серьезно. Это 1997-го год, и мы хорошо знаем, что в то время считалось нормальным смеяться над геями, лесбиянками, транс-персонами (и, кстати, ментальными расстройствами — нарколепсия, обхохочешься).
Причем конечно же юмор в теме ЛГБТ-репрезентации возможен, нужен и важен (и я много об этом пишу). Роман восприняли серьезно, потому что он тупо несмешной. Но неплохой при этом — вся линия про Сару и её возлюбленную в колледже прямо-таки хороша, хотела бы я почитать книжек сорок про них, спасибо-пожалуйста.
7.8K viewsEkaterina Kudryavtseva, 10:25