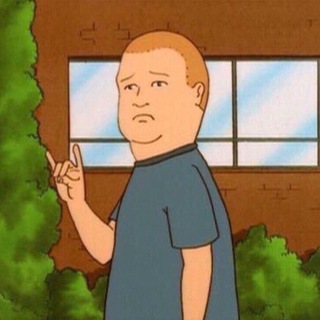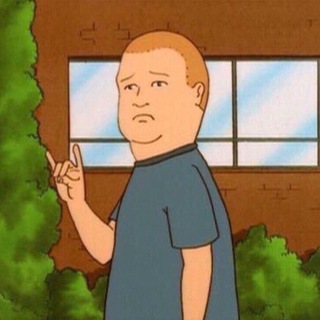2021-02-10 19:23:00
«Топи: Церковь и крепостничество» Одним из результатов процесса внутренней колонизации было крепостное право.
Крепостное право, несмотря на свою как бы длительность, никогда толком внятно не объяснялось. Любое рабство – а крепостное право было, безусловно, рабством – предполагает под собой определенную дистанцию в рамках культурного конструкта. «Мы владеем и эксплуатируем *username*, потому что он не человек/пленник/враг государства/что-угодно еще» – интересно, но магистральной формулировки (да любой, собственно. важно хоть как-то это объяснить) за всю историю крепостного права в России так и не появилось. То есть как таковой демаркации между «нами» и «ними», используя расхожий инструментарий понятных и очевидных терминологических различий, проведено не было. Отнюдь, создавалось впечатление, что именно «туземцы/иностранцы» владеют исконно русским народом – эту дискурсивную прореху потом использует в своих целях дедушка Ленин, но об этом точно не сегодня.
Церковь, будучи, возможно, самой влиятельной властной институцией того времени, тоже никак не объясняла внезапно возникший водораздел между «подчиненным» и «господином».
«Россия – единственная страна, где церковь не определяла раба как обращенного неверного». Удивительно (или не очень), но без какого-либо репутационного (извините) ущерба. Крепостные продолжали ходить в церковь, продолжали ортодоксально верить в Б-га, продолжали соблюдать разного рода ритуалы и обычаи, несмотря на изменившуюся структуру социальной иерархии, лишившую тех каких-либо перспектив и надежд на светлое завтра.
В контексте сложных взаимоотношений церкви и крепостных интересно смотреть за тем, какое место полузаброшенный монастырь занимает в «Топях». Можно сказать, что церковь, объединившись с бывшими крепостными (потомками крепостных, живущих все там же), принялась мстить приезжим «рабовладельцам» за их пригрешения в ушедших далеко за горизонт столетиях.
Если весь период крепостного права именно такого рода «туземцы» были владельцами и беспощадными эксплуататорами, которым было не стремно гасить простой люд в их собственном говне, то в «Топях» происходит резкая смена полюсов (буквально за одну серию), когда спины бывших «господ» резко оказываются под ожесточенными ударами кнута.
(Здесь напрашивается непрозрачная параллель с триеровским «Мандерлеем», где произошло похожее отзеркаливание социальной иерархии – рабовладельцы стали рабами, негры стали рабовладельцами.)
Однако, если в «Мандерлее» это проявлялось донельзя эксплицитно – белых посадили в вонючий сарай и заставляли пахать в поле до седьмого пота, то в «Топях» благодаря наличию церкви подобная перестройка властных конструктов происходит куда менее заметно, что добавляет интереса.
Как было сказано в начале этого текста, Топи – место, пронизанное метафизическими и паранормальными свойствами, в котором владение привычным нам «культурным капиталом», в общем-то, можно себе только хуже сделать. А вот приобщенность к огромному полю замкнутых в самих себе культурных кодов, среди которых возвышается крыша с позолоченным крестом, дает действительно очень многое – дает понимание себя в пространстве; дает понимание, как именно действовать; дает понимание окружающей действительности и происходящей в ней паранормальной дичи.
Церковь в «Топях» приобщила к своим таинствам коренных жителей, т.е наградила тех бесценным «культурным капиталом», которым те в общении с «заезжими туристами» не забывают понтануться, дабы напомнить, кто какое место занимает в новой формации социальной конструкции.
Церковь как бы исправляется за свои погрешности в прошлом и запоздало все-таки проводит пресловутую социальную демаркацию – и в этой реальности «туземцы» становятся рабами. Без понимания, как им выбраться из подневольного положения.
Я тоже охуел, не переживайте.
1.9K views16:23