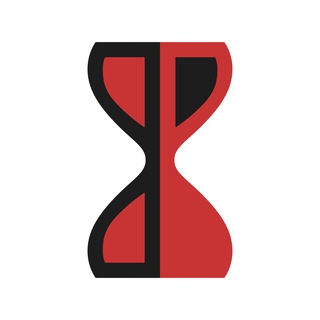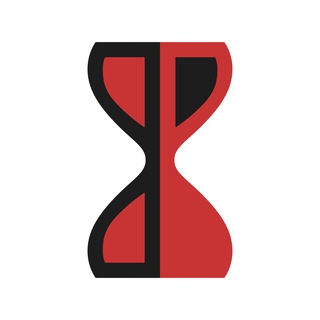2023-03-27 23:27:42
Пара мыслей вслух.
Отсутствие навыков работы с теорией, умноженное на леность ума — страшнейшая проблема современных политически активных людей, зачастую гордо именующих себя левыми. И не менее чванливо выясняющих, кто является по-настоящему левым. Будто в левизне есть хоть какая-то честь, будто левое движение не существовало задолго до материалистического взгляда на историю и не развивалось, увы, преимущественно численно — в огромное болото интеллектуальной нищеты сегодня. Позорно уступающее предшественникам тем, что в распоряжении и образование, и доступ к любой литературе.
Но, левые на каждом углу шумят, что нужно тиражировать левые идеи. И в этой вере укрепляют вожди, как те, которых упоминали не раз: Семины, Комоловы, Жуковы, Майснеры... На этом пути не требуется мысли. Зачем знать, хотя бы, сколько имеется левых, как левые могут превратиться в организацию, как на этом пути преодолеть разногласия, каковы промежуточные и конечные цели? Подумаешь, в России, возможно, уже миллионная армия левых.
Многие из них, обоснованно предположим, подозревают, что существует «диалектический материализм». При этом, большинство читали, как минимум в изложении пропагандистов, программные положения гениального диалектика Ленина. Но это даже наносит вред, тем, что горе-читатели не только не умеют вдумчиво, критически разбирать текст, но и преисполняются предубеждениями, включая фатальную уверенность в понимании материалистической диалектики. Невежество умножается на убежденность.
Как простой пример куриной слепоты в литературе, актуальная тема объективных условий в оценках империализма сегодня. Это на острие публикаций, социальных сетей, форумов. Левые наперебой оглашают друг другу формулы: «Капитализм всегда развивается в фашизм», «Капитализм всегда идет к войне», «Выбор стороны в капиталистическом противостоянии есть классовое предательство» и так далее. Но из интеллекта ускользает диалектика материализма. К примеру, непонимание, что цивилизационный подход содержал толику истин, которые отрицаются объективным не в одностороннем порядке, а более высокой формой понимания субъектности человека в истории. Однобокий взгляд не более верен, чем исследование, ставящее человека в центр исторических процессов. Материалист в анализе, осмыслении общества начинает с конечной и фактически данной формы, не исключая ее, где объективное выступает пониманием первоисточников, коренных причин, ведущих векторов и тенденций в разворачивающемся поприще.
Это – отрицание отрицания. Мы возвращаемся к пониманию тех же социальных, политических явлений, но в более высокой форме. Сами социум и политика обретают более зрелый, совершенный вид, чем ранее, когда осмыслялись и понимались в отрыве от базиса, о первичности которого так любят говорить левые.
Действительно, у левых нет ответов на вопросы, почему фашизм не натянул свою форму на все общества и каким образом человек может переломить ход истории, будучи подчиненным объективным условиям. Такие умы, заучившие примитивы материализма, к примеру, читая доклад И. Сталина, никогда не поймут, почему за все рассуждения ни разу не упомянуты объективные условия (приводимые вождем в других местах, где изучались предпосылки). Почему речь идет об идеологической платформе партии, зачем приведены параллели со средневековьем, а фашизм разрывается с нацизмом и ассоциируется с политическим империализмом, и зачем нужен акцент на расчеловечивании, на озверевших людях. Не поймут, что в анализе конечной формы общества играют роль оба взаимосвязанных фактора, где объективное выступает импульсом, почвой, но не работает в одностороннем порядке по заданным лекалам.
Отказ от понимания, что человек является субъектом истории, снимает всякую ответственность. Не только с Гитлера или Байдена и их политических, олигархических клик, но и с самих себя, выливаясь в цельную платформу, в рамках которой не нужно читать и размышлять.
159 viewsedited 20:27