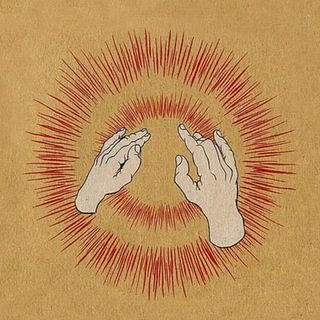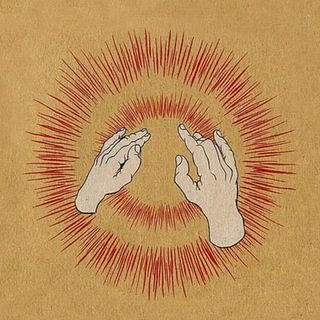2021-07-27 20:38:08
Серая зона морали: Происхождение термина
Серая зона (ит. zone grigie) — термин, который ввёл писатель Примо Леви в одноимённом эссе книги «Канувшие и спасённые» (1986).
Примо Леви был итальянским евреем: в 1943 году его, 24-летнего, схватили сотрудники фашистской милиции, а 11 февраля 1944 года Леви отправили в Освенцим, где он работал в лаборатории как химик. Спустя 11 месяцев Леви освободили солдаты Советской армии — на тот момент из 650 итальянских евреев в Освенциме осталось в живых лишь двадцать. Леви дожил до 67 лет, покончив с собой 11 апреля 1987 года: в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей Леви бросился с лестницы вниз (по другой версии, это был несчастный случай). Таким образом, «Канувшие и спасённые» — предсмертный сборник эссе Примо Леви, своеобразный итог его размышлений об экзистенциальном опыте приговорённых к смерти и выживших — тяжесть, которую сам Примо Леви нёс до смерти.
В «Серой зоне» Леви описывает, что попав в концлагерь, «цуганг» (новичок) удивлялся, что не все его узники сплочены против режима. Вместо солидарности он с ужасом замечал, что бинарная оппозиция «мы / они» здесь не работала: «лагерное мироздание населяли тысячи отдельных монад, которые постоянно вели между собой скрытую отчаянную борьбу», а агрессия часто шла не от нацистов, а от своих же собратьев по несчастью — старожилов лагеря. Столкнувшись с этим, цуганг зачастую терял всякую волю к сопротивлению. Но впереди его ещё ждало знакомство с тремя типами жителей «серой зоны» морали.
Сначала цуганг сталкивался с привелигированными заключёнными, ради лишней порции супа готовыми примерить роль подметальщиков бараков, мойщиков котлов, ночных дежурных, заправщиков постелей, проверяльщиков на вшивость и чесотку, порученцев, переводчиков, помощников помощников. Не жестокие, но жалкие, грубые, наглые, обладающие «корпоративным менталитетом», они рьяно защищали свои привилегии, хотя шансов выжить у них было не больше, чем у остальных. Этих жителей «серой зоны» Леви предпочитает не винить в сотрудничестве с режимом, поскольку ущерб их был минимален.
Затем цуганг узнавал про существование капо — узников, получивших высокие посты в системе концлагеря. Бригадиры, старосты бараков, писари, сотрудники администрации, карцера, политотдела и отдела труда — они, по воспоминаниям Леви, «были свободны совершать над подвластными им заключенными любые, самые жестокие действия под предлогом наказания за какую-либо провинность или вообще без всякого предлога. Вплоть до конца 1943 года нередки были случаи, когда капо забивали заключенных до смерти, зная, что не понесут за это никакого наказания». Капо становились не сразу: рекрутированные после долгой транспортировки в лагерь, сломленные, презираемые обеими сторонами, они менялись: «заразившись вирусом власти от своих угнетателей, капо неосознанно стремились идентифицировать себя с ними». По мнению Леви, на этих «серых людях» лежит доля индивидуальной вины, но основной груз вины всё-таки лежит на порочной системе, которая и порождает таких коллаборационистов.
Наконец, цуганг не сталкивался, нет, только слышал о самом крайнем звене коллаборационистских сил концлагеря — членах зондеркоманд, обслуживающих крематории; тех, кто принимал уже непосредственное участие в уничтожении узников Освенцима. Участники зондеркоманд — презираемые без исключения всеми «вороны крематория», набранные преимущественно из евреев и изолированные от остальных заключённых, являли собой крайнюю, глубинную территорию «серой зоны» — места, где жертва разделяет с палачом всю тяжесть его вины.
142 views17:38