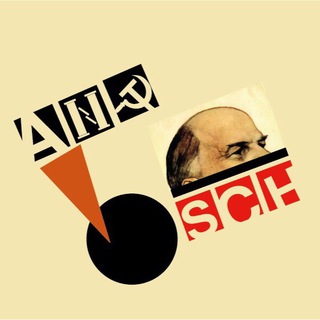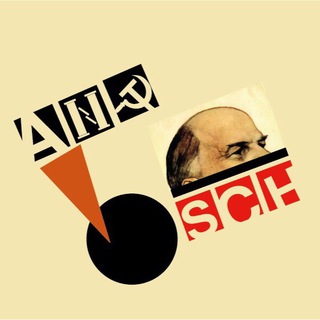2020-05-18 23:53:30
113. Актуальность Платона и симулякрыИзвестно, что философская практика требует многократного прочтения одних и тех же работ, так как любая философская работа перегружена смыслом. Суть в том, что философские тесты имеют в качестве предпосылки другие философские тексты и, как это было помечено — являются в некотором роде комментариями к Платону.
При этом можно сказать о марксизме, как о начале практики материалистической философии, именно той философии, объектом исследования которой является история метафизики. Именно Маркс становится инициатором мысли, что манера лишения божественных привилегий в пользу человеческого существа, является неверной повесткой — в которой, как полагается, материализм противопоставляется идеализму.
Дело вовсе не в том, что у субъекта нет никакого другого субъекта-учредителя и даже не в том, что субъект склонен к отчуждению себя в других сущностях, а в том, что никакого действия по отчуждению не предпринимается — субъект отчужден и так. Можно сказать:
не акты способствуют отчуждению, а отчуждение актам.
Именно такое положение мысли позволяет сделать очевиднейшее предположение: Платон
провозглашает начало истории метафизики. Но как раз, исходя из этого утверждения, возможно объявить пресловутый конец истории как конец истории метафизики. Именно из этой банальности в допущении, метафизика оказывается необратимо изобличенной, а все любовные чувства к метафизике, объявляются моветоном. При этом, как бы парадоксально это не звучало, о конце метафизики можно говорить лишь постольку, что с началом ее конца, торжество метафизики не прекращается. Напротив, многие верные последователи Маркса возвращают его в лоно фейербаховской критики, провозглашая его и себя гуманистами. Поруганным остается лишь слово метафизика, но не ее суть, выраженная в платоновской тревоге, в заклятых врагах его политии. Речь здесь, конечно же, о
симулякрах, об обязанностях изгонять из идеального порядка каждого, кто производит копии материальных копий, то есть: поэтов, художников, актеров, тех, кто плодит лишние сущности, нарушая идеальный космический порядок. Борьба с симулякрами выступает не каким-то там самодурством, а, так сказать — делом государственной важности.
Отношение к симулякрам сегодня говорит не только о том, что Бодрийяра предпочитают читать тем самым излюбленным способом, когда чуть ли не каждый читал его работы, но способен сообщить о его трудах чуть больше, чем о них написано в Википедии лишь при «повторном» прочтении. Их совершенно не заботит та мысль, что
порчи поддается только то, что уже испорчено. Это не позволяет озвучить себе ни Платон, ни гностики, ни схоласты, ни рационалисты, хоть и об этом подвохе каждая из этих школ многократно упоминает. При этом просвещение видит в Платоне в большей степени авторитетного философа, нежели именно родоначальника метафизической традиции, как очевидность. В своей попытке препарировать историю метафизики
основным вопросом философии в марксизме, такого рода марксисты не отдают отчет не только в том, что материя не является первопричиной, но и самого главного в этом вопросе —
это первый основной вопрос философии, вопрошающий не о первопричине.
Если так называемая философия модернизма начинается с основного вопроса философии, исключающего конечную причину (causa finalis), то заканчивается она на том, что из этого вопроса исключается и первопричина. Однако, где вы вы видели, чтобы нынешние марксисты говорили о чем-то подобном? Кто из них говорит о симулякрах не для того, чтобы лишний раз покритиковать общество потребления, а чтобы указать на
потребление, как единственный способ существования социальности? Симулякр указывает не столько на процесс копирования, репрезентации действительности, сколько на отсутствие оригинала. Но смысл не в том, чтобы объявить все симулякрами и грезить при этом загадкой сокрытого оригинала, а в том, чтобы в оригинале увидеть подлог,
изнанку понятия симулякра.
441 views20:53