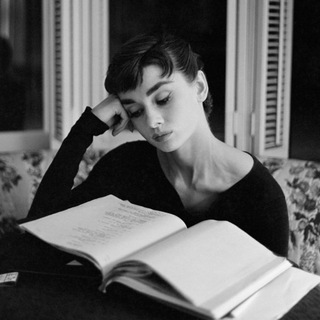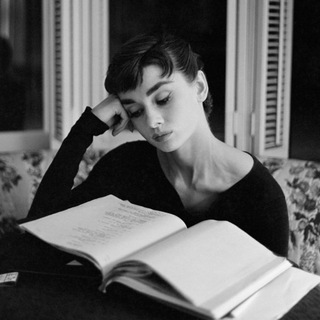2022-08-01 12:01:40
Когда еще вспоминать про книжки, если не на фоне обсуждения новых законопроектов, ужесточающих запретительные меры в отношении «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Раньше нельзя было влиять на неокрепшие детские умы, а чтобы не влиять и дать им окрепнуть, было достаточно заботливо упаковать опасное печатное издание в полиэтилен и поставить маркировку «18+». Примерно то же с кино, только без полиэтилена (или кто-то еще покупает фильмы на физических носителях?).
Скоро влиять нельзя будет вообще ни на какие умы [понятно, хотелось бы, чтобы и умов никаких не было, на которые можно влиять, и над этим тоже работают]. Авторы законопроекта очень переживают за интеллектуальную, нравственную и психическую безопасность общества в целом. Среди причин называют то, что в обществе, где мужикам можно целоваться [или чего похуже] на экране, крайне вольготно себя чувствуют педофилы. Не спрашивайте, но это загадочным образом работает.
Отдельного внимания в пояснительной записке к законопроекту № 165975-8 удостоился «так называемый образ жизни «чайлдфри» [не отношусь себя к ним, но тоже напряглась]. И к пропаганде ЛГБТ волшебным образом присоединилось «отрицание семейных ценностей». Демография, понимаете ли, под ударом, «ещё нарожают не работает». Короче говоря, формулировки такие, что нельзя ничего, что не предусмотрено Домостроем, а если что-то можно, то все равно лучше не стоит.
На фоне всей этой законотворческой красоты, которую можно просто цитировать, не комментируя вообще никак, чаще всего упоминают популярный в этом году гей-фанфик «Лето в пионерском галстуке» [та самая, как недавно пошутил Мильчин, любимая книга Захара Прилепина]. Я его еще не прочитала, хотя, конечно, купила – пока нас разделяет только полиэтилен, а не КоАП. Зато готова напомнить про три другие хорошие, но уже не такие модные, книжки одного автора.
Микита Франко – трансгендерный юноша, который пару лет назад написал нашумевшие «Дни нашей жизни». Это книжка про мальчика, которого воспитывают два папы. В той далекой прошлой жизни ее все хором сравнивали с «Денискиными рассказами» Драгунского. Роман, состоящий из множества скетчей, действительно, смешной (пока не скатывается в чутка наигранную драму-драму). Но главное, несмотря на всю наивность сюжетных ходов, он как-то очень просто, понятно и неоспоримо высвечивает трагедию ребенка, вынужденного жить двойной жизнью. Травма в этом, а не в том, какого пола у него родители. Недавно грустно шутили с подругой, что скоро на месте героя окажутся дети несогласных с политическим курсом.
После «Дней нашей жизни» Popcorn Books издали еще два романа Франко. «Тетрадь в клеточку» – про мальчика, у которого с собой покончила мама, не справившаяся с принятием своей трансгендерности. Но, опять же, это не какая-то специальная квир-литература. В книжке много других героев, чьи внешние особенности ни разу не определяют их суть. Мне особенно нравится там линия девочки-таджички, которую все обходят стороной из-за бедности и плохого владения языком, а она и сама по себе милашка, и растет в прекрасной любящей семье. В представлении наших законодателей детям такое нельзя. В моем представлении – именно такое им и нужно, чтобы научить не взращивать в себе ненависть вообще ко всем на них непохожим.
Последний роман – «Девочка в нулевой степени». Про девочку, которая была настолько не похожа на других девочек со всеми их платьицами и рюшами, что решила, что, видимо, она мальчик. Потом там много всего произошло, и героиня передумала. Ну, а что вы хотели, процесс самоидентификации не всегда дается легко. А еще мне показалось, что в этом романе Франко неожиданным образом пересекается с размышлениями Васякиной «Ране». Она там определяет свою мать как «женскую женщину» и через отличие от матери пытается определить себя. Франко тоже рисует шкалу женственности, по которой его героиня ставит себе крепкий ноль, но в процессе понимает, что «девочка в нулевой степени» – это все равно еще не мальчик.
213 views09:01